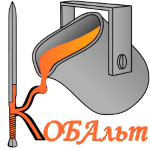О! Эти бойкие ребята с нимбом святости за прошедшие два столетия со времен Наполеона в совершенстве овладели ритуалом пожатия рук не только “чуме”, чтобы возродить бодрость в погибающем уме народа. Этим простым и доступным способом они превращают народ в бессмысленную толпу, “живущую по преданиям и рассуждающую по авторитету”. Неудивительно, что такие “поэты”, воспевающие до самозабвения культовые ритуалы, искренне верят, что их протеже станут великими на века. “Друг” – Пушкин, выливая ушат холодной воды на горячую голову “поэта”, указывает ему на тех, кто привык считать народ стадом баранов и основная цель которых – скрыть свет истины от народа:
Мечты поэта –
Историк строгий гонит вас!
Увы! Его раздался глас, –
И где ж очарованье света!
Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не довел “исследование” до конца. И здесь, по-моему, он совершает невозможное: наглядно демонстрирует, как почитатель “культа” становится циничным писакой, ставящим “возвышающий обман” в основополагающий принцип своего творчества, т.е. превращается в продажного борзописца “строгих историков”:
Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! – Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Разоблачает себя “поэт”, и, понимая, что без необходимого камуфляжа его “Герой” предстанет в глазах “посредственной толпы” непривлекательно, возмущенно кричит:
Оставь герою сердце!Что же
Он будет без него? Тиран…
Последнее слово, как всегда, за Пушкиным:
Утешься….
Какова точность счета! Ведь все сказано и за сто лет до того, как фидеисты начала нашего века приступили к сотворению культа Сталина. И дата и место указаны точно – 29 сентября 1830 года г. Москва.
“Герой” написан Пушкиным не в Москве, а в Болдине и не в сентябре, а в октябре 1830г., т.е. одновременно с “Домиком в Коломне”. Дата 29 сентября 1830г. связана с реальным событием – посещением Николаем I зачумленной Москвы, но для такого художника, как Пушкин, реальный мир и мир символов цельны и соединены животворной связью, неуловимую нить которого мы и пытаемся сделать осязаемой в нашем исследовании. Для сочинителей, лишенных целостности мировосприятия, истина уже не одна. Их много – тьма, и все они, разумеется, “низкие”.
Наберись терпения, читатель! Это не отвлечение внимания от основного предмета нашего исследования, а подготовка к восприятию вещей настолько необычных, что если к ним идти обычным порядком, т.е. в лоб без широкого исследования мира художественных образов, в котором жил и творил гений Пушкина в болдинскую осень, то многое дальнейшее может быть воспринято как мистика. Правда, в наше время и это не удивительно, 6 июня 1989 года в телевизионной юбилейной пушкинской программе один из актеров, участвующих в передаче, произнес следующее: “Поражает его цельность, т.е. никакого конформизма. Ни к кому он не подлаживался, а высказывал свою позицию прямо и даже с более глубоким видением мира, чем мои современники. Порой он наводит на меня мистический ужас.” Это высказывание хорошего актера и честного человека озадачило меня. Мистическое отношение к предмету возникает как результат нарушения цельности мировосприятия в сознании субъекта, с одной стороны, и разрушения (зачастую целенаправленного) мира художественных образов объекта, с другой стороны. Поэтому будем особенно внимательны к малейшему разрушению целостного мира художественных образов, созданных гением Пушкина.
А техника разрушения такова. В издании Морозова “Домик в Коломне” содержит 54 строфы с эпиграфом из “Метаморфоз” Овидия, данного Пушкиным по-латыни: “Modo vir modo femina”. Дословный перевод: “То мужчина, то женщина”. У Томашевского эпиграф изъят с положенного места и перенесен в примечание без перевода, а в основном тексте вместо 54 строф осталось только 40. Изъятые 14 строф перенесены в раздел “Ранние редакции” со следующим примечанием:
“Первоначально рассказ предварял ряд строф, посвященных литературной полемике. Ко времени появления “Домика в Коломне” острота этой полемики была утрачена, и Пушкин полемические строфы откинул. Также он отказался от мысли напечатать повесть анонимно.” Все это, конечно, ложь. Ко времени напечатания, т.е. 1833-35гг., острота полемики не только не была утрачена, а возросла даже в большей мере, чем в момент написания, т.е. осенью 1830г. Более того, она сохранила свою актуальность в последующее 100-летие и особенно обострилась после революции в России, а сегодня даже неискушенному читателю видно, что эта полемика достигла своего апогея. И не потому ли выброшены 14 строф, что они помогают понять, почему “друг на друга словесники идут” и сегодня, как во времена Пушкина. Нет, не случайно Томашевский убрал их в раздел “Ранние редакции” – он работал с дальним прицелом.
Здесь усматривается психологический расчет. Дробление текста – это прежде всего дробление сознания читателя, нарушение целостности его мировосприятия. Понимал Томашевский, что далеко не каждый читатель заинтересуется “Ранними редакциями”. Ведь его сознанию привит устойчивый стереотип: “Изучение различных редакций – удел литературоведов”. По сути дела операция, проделанная Томашевским и К над основным текстом Пушкина, – преднамеренное сужение понятийной базы читателя. На самом деле никаких “ранних редакций” “Домика в Коломне” не было. Повесть написана поэтом на едином дыхании в течение максимум недели, т.е. с 4 по 10 октября. После первых 12 строф в рукописи стоит дата – 5 октября. Если учесть, что в эту неделю было написано еще шесть стихотворений, а 9-го октября закончен “Гробовщик” (третий по счету из пяти “Повестей Белкина”), то и говорить о каких-то “ранних редакциях” “Домика в Коломне” – словоблудие. Вообще 10 октября был самым плодовитым днем Болдинского периода (см.примечание). Отсюда и признание Пушкина невесте в письме 11 октября 1830 года, которое так странно переведено Томашевским. Ну, и нигде нет указаний на то, что Пушкин отказался напечатать повесть анонимно.
Я не считаю, что в издательствах “Брокгауз – Ефрон” “Просвещение” трудились одни поклонники пушкинского таланта. И все-таки следует признать, что дореволюционные пушкинисты были разбойниками в меньшей степени, чем послереволюционные. Так у Морозова, в приведенном выше предисловии к “Домику в Коломне”, мы отмечаем лишь непонимание замысла художника, но наблюдаем также стремление к объективному отражению мнения критики и автора без попыток обрезания основного текста, т.е. без покушения на целостность мировосприятия читателя.
Известно, что одним из самых сложных вопросов в исследовании творчества любого художника является постижение замысла его творения. В издательстве “Просвещение” и здесь проявили достаточно такта, не навязывая читателю своего решения этого вопроса. В издательстве “АН СССР” посчитали, что такого вопроса вообще не существует, т.е. банальность “Домика в Коломне”, о которой впервые известили читателя сотрудники редакции “Литературного прибавления” к “Русскому инвалиду” в 1833г., доказательств не требует, и потому в “Примечаниях” сочли возможным дать следующее пояснение:
«Пушкин жил в той части Петербурга, которая называется Коломной (окраинная часть на правом берегу Фонтанки у ее слияния с Екатерининским каналом) после окончания Лицея до ссылки на юг. Впечатления этих лет и легли в основу поэмы».
Итак, “Домик в Коломне” – банальность, заурядная бытовая история? Но как быть с мнением самого поэта? Стоило ли ему подниматься до святости, чтобы в художественной форме отразить некий забавный случай, который можно изложить в двух словах: “Жила-была вдова с дочерью Парашей и стряпухой Феклой. Стряпуха неожиданно умерла, дочь по просьбе матери пригласила кухарку по имени Мавра со стороны. Через какое-то время вдова застала Мавру за мужским заниятием – бритьем, падает в обморок, а вновь нанятая молодая стряпуха исчезает”. При этом возникает целый ряд вопросов. Если банальная история, то зачем же издавать ее анонимно? Если банальность, то зачем совершать над нею не менее банальный обряд обрезания? И почему исчез эпиграф? Ведь цель эпиграфа – сконцентрировать внимание читателя на основной идее произведения. Иногда разгадка символа, заключенного в эпиграфе, дает ключ к пониманию самого творения художника.
Зачем Эзопа я вплел с его вареным языком в мои стихи?
Вопросам интерпретации пушкинских творений уделялось и уделяется много внимания. Обычно авторы постулируют те или иные положения, прежде чем перейти к толкованию произведения. Например, А.А.Любищев свое понимание “Сказки о золотом петушке” А.С.Пушкина (написанной, кстати, тоже в Болдино в сентябре 1834г.) предваряет такими тремя постулатами (Ист.11):
«1) подобно тому, как великий Ньютон сказал: “Природа ничего не делает напрасно и ничего не производит большими усилиями, что может произвести меньшими.” – так и в отношении Пушкина следует принять: Пушкин ничего не пишет напрасно и, следовательно, ничего не пишет лишнего;
2) действие сказки происходит в современных границах СССР и России пушкинского времени;
3) всякий сомневающийся в первых двух постулатах – несомненный кретин или агент Уолл-Стрита.»
Автор согласен с постулатами Любищева, но важнейшим из трех считает первый с маленькой поправкой:
– Пушкин не только ничего не писал лишнего, но и ничего лишнего не рисовал.
И еще:
– хорошо известно, что в сказках всегда присутствует язык Эзопа.
– все сказки Пушкина(см.прим.2) написаны в разные годы, но непременно в Болдино и непременно осенью.
– “Домик в Коломне” – единственная повесть, в которой поэт не только предупреждает читателя, что будет вести разговор с ним на языке символов но и недвусмысленно вопрошает его: “Опять, зачем Езопа я вплел, с его вареным языком, в мои стихи?” (22 октава по ист.9).
– Пушкин отдавал себе отчет в том, что его современникам этот эзоповский язык будет не под силу:
А, вероятно, не заметят нас, –
Меня с октавами моими купно.
(21 октава по ист. 9)
– Поэт жил надеждой, что наступит время, когда истинное содержание повести станет доступным народу, а неожиданная развязка “банальной истории”, для угадывания которой он поднимался до святости, взволнует не только общественность России, но и всего мира:
Ах, если бы меня, под легкой маской,
Никто в толпе забавной не узнал!
Когда бы за меня своей указкой
Другого строгий критик пощелкал!
Уж то-то б неожиданной развязкой
Я все журналы после взволновал!
Но полно, будет ли такой мне праздник?
Нас мало. Не укроется проказник !
(20 октава, ист.9)
Итак, опираясь на данные постулаты, отправимся в путь, читатель. Но сначала несколько слов о святости, упоминаемой в письме поэта от 11 октября 1830г. к Н.Н.Гончаровой, а также об отношениях Пушкина с юродивыми, пророками, сыном божьим и самим богом. Не уяснив этого важного момента, нам будет трудно продвигаться к пониманию замысла Пушкина.
Осмелюсь утверждать, что великая тайна была положена в основу этого необычайного творения. И не потому, что поэт любил играть в загадки. Только цельный охват всего написанного Пушкиным в болдинский период дает возможность увидеть главное: Первый Поэт России мучительно стремился постичь будущее своего народа, путь развития России. Это в явном виде выходит из критических статей и писем поэта, написанных в болдинский период. Художник отображает познаваемый им мир в художественных образах. Подлинный мастер, мастер, владеющий единственно верным методом постижения мира, идет “от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности” (Ист.13). Не претендуя на роль ведущего философа, Пушкин как художник обладал для своего времени высочайшим уровнем философской культуры, который определялся глубиной постижения диалектического метода. В этом заключается тайна особой притягательности его творений, но здесь сокрыта и тайна его трагедии. Судьба диалектиков, подлинных сынов Человечества и пасынков “строгих историков”, во все времена трагична.
Особую ненависть к Пушкину у представителей всех элитарных кланов вызывала и вызывает его способность демонстрировать эффективность применения метода в процессе постижения самой жизни. Это умение поэт доносил до современного и будущего своего читателя в самой доступной и убедительной форме – форме художественных образов. Любые другие формы отрывают единственно верный метод постижения действительности – диалектику – от самой действительности и тем самым как бы умерщвляют его в условиях вечно меняющейся жизни. Так “ученые-философы” превращают этот метод из мощного орудия постижения истины в безвредное отталкивающее пугало для тех, кто к истине стремится. Потому-то, видимо, столь беспомощными и бессильными выглядят современные официальные горе-философы как в деле приобщения народа к методологии диалектического материализма, так и в постижении самой действительности. По недомыслию они это делают или по вероломству – вопрос второй.
От природы Пушкин был наделен величайшим даром понимания прошлого и постижения будущего. Но чем богаче этот дар, тем сложнее им пользоваться, тем большего труда он требует от обладателя для служения истине. Пушкин понимал, как трудно служить людям, как трудно нести им свет истины.
“Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя, –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…”
Моему современнику трудно понять, какими опасными и крамольными в начале 19 века могли стать эти строки, особенно вторая. Ведь во времена Пушкина Евангелие было настольной книгой в каждой дворянской семье, а в подсознание народа крепко закладывалась евангельская символика, которая помогала формировать в общественном сознании катехизис христианина. “Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему”(Ист.14). Волхвы предсказали Рождение Иисуса Христа по явлению звезды. В словах “я вышел рано, до звезды” символически выражено Пушкиным осознание своего высокого предназначения, более высокого, чем предназначение Богочеловека Иисуса Христа.
Читатель подумает, что это уж слишком. Но обратимся к письму Пушкина А.И.Тургеневу, в котором и были написаны эти строки. При жизни поэта они не могли быть напечатаны. Выполняя просьбу А.И.Тургенева, Пушкин дает в письме последнюю строфу из своей оды на смерть Наполеона:
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Твою развенчанную тень! Хвала!
Ты русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Но при этом заключает:
“Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года. Впрочем, это мой последний либеральный бред; я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа I.Х. (Изыде сеятель сеять семена своя)” (Ист.7, с.51) В примечаниях, с ссылкой на рукопись, приводится черновой набросок этого письма: “Это последний либеральный бред. На днях я закаялся – и, смотря и на запад Европы, и вокруг себя, обратился к евангельскому источнику и написал сию притчу в подражание басне Иисусовой” (Ист.7, с. 437) Все цитируется по Морозову. У Томашевского читатель увидит в этом письме совсем другого Пушкина. Чтобы понять значение слов “это мой последний либеральный бред”, придется дать некоторые пояснения о перемене взглядов поэта к этому времени. В мае 1821г. Пушкин был принят в кишиневскую масонскую ложу “Овидий”. В этой и других масонских ложах последователи французских “вольных каменщиков”, не понимая конечных целей тех сил, которые, прикрываясь громкими лозунгами “свободы, равенства и братства”, разрабатывали план уничтожения самодержавия в России. Трагедия Пушкина заключалась в том, что он быстро распознал тайных режиссеров будущей трагедии, в которой горячим головам дворянской молодежи, вкусившим “невольного европейского воздуха”, отводилась роль жертвенных козлов-статистов. Масонские ложи – организации тайные. Каждый вновь вступающий в них связывался клятвой сохранять обет молчания, за нарушение которого расплата всегда одна – смерть. Таким образом, масонская пирамида под видом борьбы за свободу превращала посвященную в некое таинство элиту в самое дисциплинированное стадо баранов. Разумеется, Пушкин оставаться в стаде, даже элитарном, не мог. Поэтому “Притча в подражание басне Иисусовой” заканчивается так:
Паситесь, мирные народы,
Вас не разбудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды –
Ярмо с гремушками, да бич.