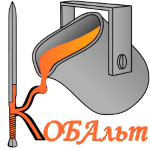Принято считать (так дается в примечании у Томашевского), что появление стихотворения вызвано поражением революции в Испании, подавленной французскими войсками (Ист.15). Однако в примечании у Морозова имеются еще следующие стихи:
Увидел их, надменных, низких,
Глупцов, всегда злодейству близких…
Пред боязливой их толпой
Ничто и опыт вековой…
Напрасно.
(Ист.16)
Отсюда видно, что Томашевский не “просто врет, но врет еще сугубо”, чтобы увести внимание читателя от предметов, тщательное рассмотрение которых, по его мнению, для профанов, т.е. непосвященных, нежелательно. В черновых строках, не вошедших в окончательную редакцию “притчи”, хорошо видно, кого поэт подразумевал под стадом, состоящим из “надменных, низких глупцов, всегда злодейству близких”. Именно эти строки дают основание судить о том, что меж поэтом и будущими декабристами назревал серьезный конфликт. Отголоски этого конфликта и доходят к нам из рассматриваемого письма: “Надобно, подобно мне, провести три года в душном азиатском заключении, чтобы почувствовать цену и невольного европейского воздуха… Когда мы свидимся, вы не узнаете меня: я стал скучен, как Грибко, и благоразумен как Чеботарев.
Исчезла прежня живость
Простите ж иногда мою мне молчаливость,
Мое уныние… Терпите, о друзья,
Терпите казнь за то, что к вам привязан я.”
(Ист.7, с.51)
Это у Морозова. А вот во что превращены эти четыре строки у Томашевского:
Исчезла прежня живость,
Простите ль иногда мою мне молчаливость,
Мое уныние?… терпите, о друзья,
Терпите хоть за то, что к вам привязан я.
(Ист.8, с.75)
В четырех строках пять искажений, из которых четыре мелких, незаметных глазу, но одно явное: замена слова “казнь” на “хоть“. Сделано тонко и не лишено подлого мастерства подделки, а в результате… У Морозова Пушкин не просит извинить его поменявшееся отношение к миру, а объясняет происшедшие в нем перемены и, будучи человеком честным, предупреждает братьев-масонов, что не только не собирается слепо следовать глупцам-баранам, готовым во имя красивых лозунгов взойти на жертвенный костер, но и не откажется от попыток открыть “слепым” причины их “слепоты”. Известно, что прозрение, особенно нравственное, операция болезненная. Тот, кто стремится помочь этому прозрению, в глазах слепца может стать палачом, подвергающим пыткам свою жертву. Вот почему у Пушкина в последней строке четверостишия стоит слово казнь. Находясь в затруднительном положении ( поэт был повязан клятвой сохранять обет молчания), Пушкин вынужден образно излагать свою позицию, но тем честнее и благороднее он выглядит в глазах потомков. В варианте Томашевского – это уже человек, умоляющий друзей простить ему уныние и молчаливость и терпеть его только за то, что он привязан к ним. Мог ли быть Пушкин таким в 1823г., если не прошло и года, как он наставлял своего младшего брата: “Никогда не принимай одолжений. Одолжение – чаще всего предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает.” (Ист.8, с.761)
Уж в чем нельзя было упрекнуть Пушкина, так это в двоедушии. Но этого не могут ему простить до сих пор те, кто всегда был готов разжечь костер разрушительного разрешения противоречий, лежащих в основе жизненного пути развития России. В данном случае все сделано мягко, культурно, но вполне эффективно. В результате перед читателем совсем не тот Пушкин, которого надо было заставить замолчать во что бы то ни стало. Пушкина, воспитанного современными “пушкинистами”, среди которых особенно преуспели Томашевский и К, можно было бы и пощадить.
Таковы были отношения поэта с Богочеловеком. Отношения с пророками у него складывались сложнее. В двадцатидвухлетнем возрасте он имел наглость не только посмеяться над первым в истории Человечества антисемитом – Моисеем (пастухом еврейского стада), но и открыто предупредить посвященных в эту тайну: “На сей раз торговая сделка не состоится”.
С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал, и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь, – историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!
(“Гаврилиада”. Ист.10, с.144)
И вдруг через пять лет:
И бога глас ко мне воззвал:
“Восстань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей”.
(“Пророк”. Ист.15, с. 339)
Я намеренно разбираю этот случай, так как он будто бы противоречит изложенному выше и дает право обвинить Пушкина в непоследовательности. Но не спешите. “Пророк” – произведение необычное, и надо хорошо знать все обстоятельства его появления, чтобы понять и самого Пушкина, и что хотел поведать людям его необычайный дар.
Сначала немного о впечатлениях личных. С детских лет принимавший все написанное Пушкиным так же естественно и целостно, как ребенок принимает яркий, живой, вечно изменяющийся мир, я почему-то не принял “Пророка” и более того, демонстративно отказался читать его на уроке. Учитель русского языка, человек добросовестный, мягкий и тонкий, был поставлен в затруднительное положение. Зная мою способность к легкому запоминанию стихов, а пушкинских в особенности, он не мог уяснить причины столь неожиданного упрямства. Да я и сам не смог бы тогда сделать это и потому на все вопросы упорно молчал. Этот эпизод из детства возможно и забылся бы, если бы учитель поставил мне двойку. Но то ли слишком откровенным выглядело желание получить двойку, то ли учитель понял что-то, что не дано было понять двенадцатилетнему мальчишке, – я был отпущен с миром, а это вызвало в свою очередь справедливое возмущение всего класса. Слишком явным было нарушение “социальной справедливости” – каждому по труду. И если бы не “историк” Гефтер и его пресловутая статья “Россия и Маркс”, я, возможно, так и не смог бы понять причины моего неприятия пушкинского “Пророка”. Анализируя поражение декабристов, Гефтер патетически восклицает: «Именно катастрофой это было, а не просто поражением. Масштаб ее определялся не числом жертв, не варварством кары, а разрывом времени» (Ист.1). Катастрофой для кого? Для тех, кто уже тогда строил планы «окончательно сделать Россию вакантною нациею, способною стать во главе общечеловеческого дела?» (Ист.17). Или для народа, который ничего не знал ни о целях заговора, ни о самих заговорщиках? Да, число жертв после подавления восстания (пять повешенных и полторы сотни сосланных) – действительно совсем не тот масштаб, на который расчитывали предприимчивые предки Гефтера. То ли дело, столетие спустя, когда бронштейны, апфельбаумы, розенфельды, дорвавшись до власти, с революционным рвением вычистили весь культурный слой русской нации. Миллионы расстрелляных, изрубленных, распятых в лагерях и тюрьмах. Вот это действительно масштаб! Это – подлинная катастрофа! Так они интеллигентно (с пониманием!) разрешали основные противоречия российской действительности.
Получи такое же направление разрешение противоречий России в начале 19 века, мы не имели бы ни Пушкина, ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого. Перетцы, бенкендорфы и ротшильды, преодолев “неподатливость России к единству” мира, о котором так страстно печется в своей статье Гефтер, на столетие раньше преодолели бы “разрыв времени“. Вот почему Гефтер с плохо скрываемым раздражением продолжает:
“В поисках будущего мысль обращалась к прошлому. Пушкинский “Пророк” – призыв и обязательство протагонизма – несколькими страницами отделен от “Стансов”, обращенных к Николаю”.
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Вспомните, как начинался “Пророк”:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Так вот в чем дело! Вот что вызвало раздражение “строгого историка”: взял на себя обязательство “протагонизма”, что в переводе с пиджин-языка на понятийный русский означает согласие быть слепым орудием в руках “строгих историков”, и вдруг легкомысленно отказался; и вместо того, чтобы “мрачно влачиться в иудейской пустыне”, начал давать советы царю, да какие:
“Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен”.
(“Стансы”. Ист.15, с. 342)
Тут действительно есть от чего прийти к зубовному скрежету потомкам Перетца(см.прим.3).
Так появилась настоятельная необходимость разобраться не только с личными детскими впечатлениями, но и с глубинными мотивами появления самого “Пророка”.