До 1917 года культ таких демократов лепился от имени Бога, после октября 1917 года – от имени народа, но цели опекунов оставались неизменными и сформулированы они достаточно определенно: “Если вы не будете мешать наполнять содержанием нашу программу на уровне бытия, то мы позволим вам играться формами на уровне сознания.” Так бытие имеющих деньги стало определять сознание тех, кто денег не имеет.
Окончательно свои отношения с пророками и их опекунами Пушкин уладит ровно через 4 года в знаменитую Болдинскую осень 1830г., когда в полном уединении заглянет в кладезь народной мудрости: “… провидение – не алгебра; ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного (разумеется, из понимания общего хода вещей, а не ума: авт.) глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного мгновенного орудия Провидения”. Из понимания общего хода вещей можно вывести “глубокие предположения”, а не “глубокое предположение”. Поэтому “ум человеческий” – не “ПРОРОК”, а “УГАДЧИК”.
И не “всегда“, а “часто” эти предположения оправдываются временем, поскольку частота зависит от “глубины” постижения “общего хода вещей” умом. Пророк глубиною понимания общего хода вещей не обладает, ибо имеет право на одно единственное предположение, продиктованное ему Господом Богом. А Господь Бог – единственное существо в мире, которое никогда не ошибается. Если же Господь Бог ошибся, то творящие культ Бога о лжепророчествах просто умалчивают. Такова техника этого дела.
Пушкин глубоко понимал “общий ход вещей”, и потому его предположения были очень глубокими, т.к. ОБА варианта будущего, изложенные в “Андрее Шенье”, полностью оправдались временем. Они сбылись в течение одного столетия. Вот первый. Шенье перед казнью, размышляя о своей судьбе, обращается к палачам-революционерам:
“Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях.
Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет… и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду… пора… но ты ступай за мною;
Я жду тебя “
Известно, что в России 14 декабря переворот не удался, а 22 мая 1826 года в письме к П.А.Вяземскому Пушкин запишет: “Как же ты можешь дивиться моему упрямству и приверженности к настоящему положению? Счастливее, чем Андрей Шенье, я заживо слышу голос вдохновения”.
Однако, “вечные странники революционной перестройки” преодолели столетие спустя “разрыв времени” и навязали русскому народу свое понимание общего хода вещей, количество крови народной было пролито много больше, чем 13 июля 1826г. Но в обоих вариантах гибли лучшие люди Отечества. В этих страшных катаклизмах истории России, повторившихся в течение столетия в отдельных ключевых моментах с точностью до одного года, “штурманы будущей бури, – эти современные Агасферы, одни остаются и по сей день “неуловимыми мстителями”.
Долгие сорок лет я старательно обходил стороною “Пророка”, а вот, спасибо “строгому историку” Гефтеру – примирил он меня, пятидесятилетнего, с чистой и легко ранимой душою мальчишки. И стало мне понятно, что душа то была цельная и по-детски искренняя, не принимающая жестокости даже во имя великой цели. Не приняла она жестокостей “шестикрылого пернатого” по отношению к любимому ею поэту:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Представьте себе мальчишку, наделенного от природы богатым воображением, с душою легковерной и нежной. Он принимает этот рассказ буквально и ничего, кроме жалости к поэту, изуродованному столь садистской экзекуцией, испытывать не может. Аллегория! Образ! Символ! Оно, может, разуму и понятно, но… душа не принимает! Ибо, пока еще душа эта цельная, не разрушенная противоречиями действительности, весь окружающий мир воспринимает цельным. Такая душа – своеобразный “щит Персея” – до поры до времени защищает сознание ребенка от разрушительного воздействия сомнения. В 1824г. в заметках о стихотворении “Демон” Пушкин напишет об этом с присущей ему точностью и опрятностью: “…я вижу в “Демоне” цель более нравственную. Не хотел ли поэт олицетворить сомнение? В лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия существенности рождают в нем сомнение, – чувство мучительное, но непродолжительное… Оно исчезает, уничтожив наши лучшие и поэтические предрассудки души… Недаром великий Гете называет вечного врага человечества – духом отрицающим… И Пушкин не хотел ли в своем “Демоне” олицетворить сей дух отрицания или сомнения и начертать в приятной картине печальное влияние его на нравственность нашего века?” (Ист.16, с.646-647).
В этих кратких, но очень содержательных заметках – ответ на зубовный скрежет Гефтера по поводу отказа Пушкина от “иудейского протагонизма” и скорой замены темы “Пророка” темой “Стансов”. Да, противоречие суровой действительности: долгая, без всяких объяснений, опала и неожиданная милость нового императора породили в нем естественное сомнение – ” куда ж нам плыть?” После аудиенции с Николаем I в минуту “духовной жажды” – сомнения. На “перепутье” появляется “шестикрылый серафим” (возможно, наугад перед сном открытая страница Библии на 6-й главе книги “Пророка Исайи”) В результате – рождение “Пророка”, который есть проявление “духа отрицающего” сущность самого поэта, т.е. отказ от самого себя и одновременно согласие быть исполнителем чужой воли. Это чувство мучительно(отсюда столь кровожадные аллегории, коими наполнены книги библейских пророков), но, к счастью, непродолжительное, и, что особенно важно, это чувство исчезает, уничтожив только ему, Пушкину, присущие поэтические, но все-таки предрассудки души. И вот сомнения преодолены, дух отрицающий отторгнут, и снова:
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни…
(“Стансы”)
В этом преодолении чувства мучительного, но непродолжительного(сомнения) – проявление цельности мировосприятия поэта, вечной молодости его доброго сердца, всегда доступного чувству прекрасного и неподвластного силам зла.
Здесь мы видим свидетельство борьбы сознания и подсознания гения Пушкина. На уровне сознания – понимание, кто есть Моисей, кто есть Иегова, и отсюда:
C рассказом Моисея не соглашу рассказа моего
Он вымыслом хотел пленить еврея и т .п..
А на уровне подсознания, как христианин, воспитанный в почтении к догмам “Ветхого Завета”, поэт попадает в ловушку, уготованную иудейским пророком Исайей:
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
“Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей… “
Однако Пушкин оказался по уровню понимания выше Иакова-Израиля(см.прим.8), т.к. в борьбе с самим собой, т.е. в борьбе сознания и подсознания он вышел победителем в отличие от праотца еврейского племени. Да и с Богом ли боролся легендарный Иаков? Ведь Бог света (зари) бояться не должен, света страшится Сатана, и не с ним ли заключил союз Израиль?
Значит, и в моем детском сердце, легковерном и нежном, было неприятие духа отрицания, разумеется, неприятие неосознанное, но по-своему созвучное с душою поэта.
Текст заметок “О стихотворении “Демон” дан по Морозову. Сверяю с Томашевским, и снова “обрезание и вытягивание”. Фраза “Не хотел ли поэт олицетворить сомнение?” урезана полностью (урезать, так урезать!), а выражение “Оно исчезает, уничтожив наши лучшие и поэтические предрассудки души” вытянута добавлением слова “надежды” после слова “лучшие” и с заменой “наши” на слово “навсегда”. Ну а конец последней фразы вообще переиначен. Если у Пушкина она заканчивается вопросительно: “…и начертать в приятной картине печальное влияние его на нравственность нашего века?”, то у Томашевского вопросительный знак исчез, и окончание звучит так: “и в сжатой картине начертал отличительные признаки и печальное влияние оного на нравственность нашего века”. (Ист.6, с.37).
Ну, скажет читатель, это с точки зрения ребенка. Пушкин же писал “Пророка” не ребенком, он создавал художественное произведение по законам творчества. Что ж, верно! Посмотрим, как этот процесс видится с позиции художника. Известно, что деятельность подлинных художников-мастеров всегда направлена на сохранение и созидание духовных богатств общества. Еще И.А.Ефремов в “Часе Быка” отмечал, что сберечь их можно лишь в действии, в активной борьбе со злом, в неустанном труде. Борьба эта совсем не обязательно требует уничтожения. Известно, что в духовно здоровом обществе в этой части активно проявляет себя фактор отражения, психологического отбрасывания всех проявлений зла. Пользование им в принципе доступно каждому человеку при соответствующей тренировке и при наличии неразрушенной цельности мировосприятия. Для того, чтобы высшие силы человека ввести в действие, нужна длительная подготовка, точно такая же, которую проходит художник, готовясь к творчеству, к высшему полету своей души, когда как будто извне приходит великое интуитивное понимание. Войти в это состояние художник может лишь последовательно проходя три этапа: от отрешения через сосредоточение к явлению познания. Состояние отрешения необходимо для живого созерцания, сосредоточение – для осмысления многообразия фактов жизни посредством абстрактного мышления. Явление познания завершает весь процесс, давая возможность практически реализовать творческий замысел.
Так художник проходит диалектический путь познания истины, познания объективной реальности, и всего этого “шестикрылый серафим” его лишает. Ибо какое может быть состояние отрешения и сосредоточения, когда “вещие зеницы” вместо того, чтобы быть прикрытыми, вздрагивают, “как у испуганной орлицы”, а уши “наполняются шумом и звоном”. Уж не шестикрылый ли серафим наполняет им в наше время весь эфир 24 часа в сутки? Может, потому и бегут подлинные художники из городов в глубь лесов, чтобы подготовить себя к творчеству, к высшему полету души и вновь обрести утраченный зеркальный щит Персея. Полагаю, таким образом Пушкин свои отношения с “пророками”, их “опекунами” как-то уладил.
Отношения с Сыном Божьим, как было показано выше, ясно сформулированы им самим. Об отношениях же поэта с богами можно судить по высказываниям одного из ближайших его друзей В.А.Жуковского, изложенных в письме от 1 июля 1823г.: “Обнимаю тебя за твоего “Демон”. К черту черта! вот… твой девиз. Ты создан попасть в боги – вперед! Крылья у души есть, вышины она не боится: там настоящий ее элемент. Дай свободу этим крыльям, – и небо твое: вот моя вера”. (Ист.16, с.648). Однако сам Пушкин предпочитал верить не в слепоте, а в зрячести, ибо понимал огромную разницу между богами и культами богов, и потому окончательное суждение по столь деликатному вопросу изложит 8 июня 1834г. в письме к Н.Н.Гончаровой: “Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога”. (Ист.7, с.331), Что это значит? Ведь Пушкин понимал, что подлинные Боги шутовства веры не приемлют. К слову Бог приставка Господь пришла не случайно: творящим культ Господина не дано отличать веры слепой от веры зрячей. Более того, вера в слепоте для них предпочтительней, т.к. слепо верующий уже не может отличить шутовство веры от веры в шутовство.
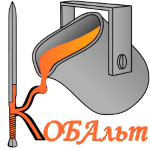
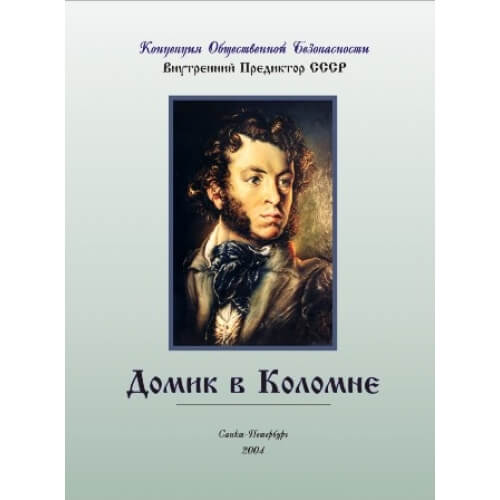 оглавление
оглавление