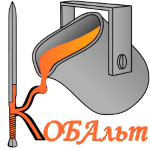(столкновение мотивов Гёте и Гофмана в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)
В статье-обзоре на творчество писателя Э.Т.А. Гофмана[1] мы не единожды упоминали о том, что вражда немецкого поэта и писателя И.В. Гёте к творчеству немецкого сказочника и фантаста изрядно поспособствовала тому, что в Германии к творчеству Гофмана не было никакого интереса и было даже его отторжение. Между тем она имела довольно крупные долго играющие последствия, которые отозвались позднее в 20 веке в одном из крупных литературных произведений.
Гёте настолько был убеждён в ущербности творчества Гофмана, что это отразилось в его дневниках, например, в отзыве о «Золотом горшке» («Начал читать “Золотой кубок”… Почувствовал себя плохо: проклинал золотых змеек»), и он «организовал перевод антигофмановской статьи Вальтера Скотта «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана» (1827), способствовал ее публикации и написал развернутую рецензию: «Мы горячо рекомендуем нашим читателям, – писал он, – эту очень содержательную статью; кто из преданных ревнителей национального просвещения не скорбел, видя, как болезненные творения этого страдальца в течение многих лет воздействовали на Германию, как все подобные заблуждения прививались здоровым душам под видом значительных и прогрессивных новшеств» (Гете 1975, 531)» (Фёдор Фёдоров «Эрнст Теодор Амадей (Вильгельм) Гофман: именная мифология»)[2]. Однако выясняется парадокс, что эпизод пребывания Ансельма в склянке в компании заточенных, не осознающих свой стеклянный плен людей из «Золотого горшка», – одна из ярких демонстраций афоризма самого Гёте из его романа «Избирательное сродство»: «Верх рабства — не обладая свободой, считать себя свободным». На этом парадоксе приходится сомневаться в том, что Гёте, читая «Золотой горшок», был слеп, чтобы не разглядеть такое совпадение. На эту гётевскую убежденность нельзя не ответить афоризмом остроумца Козьмы Пруткова: «Бывает, что усердие превозмогает рассудок».
Что было истинным доводом Гёте в его мнении относительно Гофмана – старческая неприязнь или солидарность со своими «братьями» по ложам “вольных каменщиков” Германии и зарубежья, которых мы упомянем далее – вопрос открытый[3]. Фёдор Фёдоров в вышеупомянутой статье «Эрнст Теодор Амадей (Вильгельм) Гофман: именная мифология» констатирует: «Гете-Гофман — это едва ли не основная оппозиция немецкой культуры». Однако вражда Гёте к творчеству Гофмана явно вписывалась в антигофманскую кампанию печатных западноевропейских изданий 19 века.
Согласно воспоминаниям П.В. Анненкова из его мемуаров «Замечательное десятилетие. 1838–1848», русский публицист-критик В. Г. Белинский не понимал той стены отчуждения, которую выставила Гофману его родина и Западная Европа: «Гофман – великое имя. Я никак не понимаю, отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете: это – писатели одинаковой силы и одного разряда». Причины такого отношения представляют собой загадку, которая разрешается тем, что Гёте не один был распространителем враждебного отношения к творчеству Гофмана.
Поверхностно воспринял произведения Гофмана уже упоминавшийся нами английский писатель Вальтер Скотт в своей статье «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана»[4]. Персоной нон грата объявил Гофмана в Германии немецкий философ Г.Ф.В. Гегель в статье «Идея прекрасного в искусстве, или идеал»[5]. Однако заметно преуспел в своём непонимании и в способствовании отторжению Гофмана Германией немецкий поэт Генрих Гейне, который и вовсе обвинил Гофмана в упадничестве в статье «Романтическая школа» (1835), хотя его слова целиком применимы отнюдь не к Гофману, а ко всем сочинениям Франца Кафки:
«Гофман всюду видел одни только привидения, они кивали ему из каждого китайского чайника, из каждого берлинского парика; это был чародей, превращавший людей в диких зверей, а последних даже в советников прусского королевского двора; он способен был вызывать мертвецов из могил, но сама жизнь отталкивала его от себя, как мрачное привидение. Он чувствовал это, он чувствовал, что сам становится призраком; вся природа сделалась для него теперь кривым зеркалом, где он видел лишь свою собственную, тысячекратно исковерканную мертвую личину, и его сочинения представляют собой не что иное, как потрясающий крик ужаса в двадцати томах».
Круг врагов Гофмана определил препятствие к пониманию его творчества на его родине. Как ни удивителен факт, но практически все вышеупомянутые публицистические враги Гофмана состояли в масонских ложах и кружках. Гёте получил посвящение в веймарской масонской ложе «Амалия». Вальтер Скотт состоял в членстве масонской ложи «Святой Давид». Также в биографии Гегеля и Гейне мы обнаруживаем их связь с масонством[6]. Такой разброс недругов Гофмана по кружкам братств «вольных каменщиков» заставляет предположить о некоем целевом заговоре против выдающегося немецкого писателя. Сама вражда масонов по отношению к немасону Гофману объясняется самим антитолпо-«элитарным» характером творчества немецкого сказочника – оно мешало кураторам масонства делать глобальную идеологическую политику в Западной Европе, цель которой было взращивание лженаучных идей евгеники и прочих обоснований нацизма, который впоследствии явится в 20 век[7].
Однако оппозиция Гёте и Гофмана протекала ещё и по политическим мотивам, хотя первое заочное знакомство Гёте с Гофманом состоялось, когда в 1801 году он получил от своего коллеги Жана Поля вместе с хвалебной рекомендацией партитуру поставленной в Познани оперы-зингшпиля Гофмана «Шутка, хитрость и месть» на слова самого Гёте, которая не сохранилась и в архивах Гёте так и не обнаружена. После поражения Пруссии от наполеоновской Франции Гёте носил в петлице французский орден, коллекционировал мраморные бюсты французского императора, бывал на аудиенциях у Наполеона. Сам Гофман (и не один) оказался среди тех, кто от столкновения наполеоновской Франции с Германией потерпел многие лишения. Когда французские войска вступили в Варшаву, принадлежавшую Пруссии, Гофман, будучи тогда сотрудником прусского ведомства юстиции, тут же потерял работу: как он сообщал своему другу Гиппелю в письме, всех прусских чиновников в начале июня поставили перед выбором – либо подписать акт подчинения, содержащий присягу на верность французам, либо оставить Варшаву в течение восьми дней. «Ты легко можешь представить себе, что все честные люди предпочли последнее», – добавил к этому немецкий писатель, объясняя свой отъезд из Варшавы в Берлин. Из-за этого больную жену Гофману пришлось отправить к ее родителям, и его дочь Цецилия погибла в перевернувшейся карете. По этой причине Наполеона, катализатора этих событий, Гофман стал впоследствии воспринимать чуть ли не как личного врага (даже его сказка про крошку Цахеса многим в то время казалась сатирой на Наполеона). Гофман также написал по следам битвы под Дрезденом, проигранной Наполеоном, рассказ «Видение на поле битвы под Дрезденом», который распространяли в Германии как антинаполеоновскую листовку и которую Гёте, видимо, знал.
Последствия антигофманской кампании 19 века в печатных изданиях Западной Европы, в которую был включен Гёте, дали о себе знать в 20 веке в виде активного участия Германии в двух мировых войнах 20 века, обернувшихся её крахами. Эти последствия находят место и в наше время. В.Д. Балакин в статье-рецензии на биографию Гофмана, составленную Рюдигером Сафрански, «Между сказкой и реальностью», отмечает весьма примечательный факт, отзвук того самого прохладного отношения Гёте к творчеству Гофмана:
«Парадокс: в библиотеке Немецкого культурного центра имени Гёте в Москве нет ни произведений самого Гофмана, ни книг о нем – невероятно, но факт!»[8].
И вот творчество Гофмана и творчество Гёте попадают в Россию в 19 веке. Однако творчество Гёте в России перемалывалось и осмыслялось самым неожиданным образом. «Сцена из «Фауста»» А.С. Пушкина ярко доказывает это. Образ Фауста, топящего от скуки нагруженный золотом и «модной» болезнью испанский трехмачтовый корабль с мерзавцами посредством нечистой силы, явно адресован к масонству, к которому принадлежал сам Гёте[9] с намёком, что оно доиграется до своей гибели, да и показывает ситуацию «злочестивые вкушают гнев других злочестивых» (Коран, 6:65). Сам автор «Сцены из «Фауста»» о конфликте Гёте и Гофмана практически ничего не знал.
Однако последствия вражды Гёте к творчеству Гофмана дали о себе знать в одном крупном литературном произведении, созданном в 20 веке. Это роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Нужно отметить, что при создании своего романа Булгакову не только была известна поэма Гёте «Фауст»: Булгаков был также знаком с творчеством Гофмана не понаслышке, и в воспоминаниях современников не раз свидетельствуется его интерес к писательскому наследию немецкого сказочника и фантаста – в частности, в архиве писателя была статья литературного критика И.В. Миримского «Социальная фантастика Гофмана». Кроме того, как утверждает «Булгаковская энциклопедия», в круг знакомых Булгакова входили философ и литературовед П.С. Попов и филолог-германист Н.Н. Лямин, которые прекрасно владели немецким языком и интересовались немецкой литературой.
Но до сих пор остается незамеченным сходство «Мастера и Маргариты» со сказкой Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Какого рода оно, мы поясним далее, а пока отметим, что сходство сюжетной линии мастера и Маргариты со сказкой о Щелкунчике весьма странное.
- В обоих произведениях центральным сюжетом является знакомство главного героя с женщиной. И там, и там возлюбленный героини страдает из-за женщины, которая ведёт его к катастрофе: мастер оказывается низведен до роли сумасшедшего из-за прихоти Маргариты опубликовать роман о Пилате, Щелкунчик — из-за принцессы Пирлипат, которую он отважился вылечить от недуга, полученного от королевы мышей. Заметим, что имя принцессы у Гофмана образовано от латинского названия жемчуга, и у любовницы мастера – от греческого названия жемчуга (таким образом, Маргарита из булгаковского романа является тезкой фаустовской Маргариты и принцессы Пирлипат из сказки Гофмана). В обоих случаях эмоциональная привязанность главной героини к герою вырывает её из благополучного быта и сталкивает ее с демоническими сверхъестественными силами.
Но Мари спасает Щелкунчика от мышиного короля, и он расколдовывается со временем от своего недуга благодаря настоящей Любви. Маргарита же ведёт мастера всё дальше и дальше к инфернальным силам, что нельзя назвать настоящей Любовью.
- И у Гофмана, и у Булгакова действие приурочено к одному из главных праздников христианского календаря — к Рождеству и Пасхе соответственно. Различие естественно объясняется аудиторией текста: Рождество — праздник «детский» и центральный для западноевропейской культуры, Пасха — «взрослый» и центральный для культуры дореволюционной России.
- Повествование «разрезано» вставным сюжетом о малодушном поступке некоего персонажа в прошлом: у Булгакова — романом мастера о Понтии Пилате, у Гофмана — рассказом Дроссельмейера о принцессе Пирлипат.
- У героини появляется кривоглазый магический помощник. Крестный Дроссельмейер — «с большим черным пластырем вместо правого глаза». У Булгакова кривоглазие утроено: у Воланда разный цвет глаз, причем правый «пуст, черен и мертв» (словно отсутствует), у Азазелло на одном глазу бельмо, а у Коровьева разбито стекло очков.
Но и здесь разница есть: Дроссельмейер не является носителем демонизма, ибо он пытается помочь своему племяннику найти настоящую невесту. Воланд же действует в рамках сговора мастера и его Маргариты с ним, по итогам которого он забирает их души в ад под видом вечного покоя.
- Героиня попадает в параллельный мир, где принимает участие в масштабном празднестве. Порталом туда служит обыкновенная городская квартира (для Мари — собственная, для Маргариты — чужая). В обоих случаях путешествие «туда» изображено как физическое, пространственное, а возвращение в свой мир — как пробуждение от сна: Маргарита очнулась, хлебнув магического вина из черепа Берлиоза; Мари же так и не успела попробовать угощения в ином мире — она задремала над ступкой с карамелью, чтобы проснуться уже в своей реальности.
- Участники торжественного приема, на который попадает героиня, не вполне живые: у Булгакова — это мертвецы, у Гофмана — куклы. Сходство мертвеца и куклы затрагивал сам Гофман в «Песочном человеке», которое обозначается опытами Коппелиуса.
- Чудеса параллельного мира, которые наблюдают героини.
Булгаков: «Уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу».
Гофман: «Она очутилась в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее, чем Рождественский лес, так все тут сияло и искрилось; особенно замечательны были редкостные плоды, висевшие на деревьях, редкостные не только по окраске, но и по дивному благоуханию».
Булгаков: «В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий».
Гофман: «Там и сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона».
Булгаков: «На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная, в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала…»
Гофман: «На боковой галерее этих ворот, по-видимому сделанной из ячменного сахара, шесть обезьянок в красных куртках составили замечательный военный оркестр…».
Булгаков: «Потом Маргарита оказалась в чудовищном по размерам бассейне, окаймленном колоннадой. Гигантский черный Нептун выбрасывал из пасти широкую розовую струю. Одуряющий запах шампанского подымался из бассейна» (затем Бегемот пускает в бассейн коньяк).
Королевство сластей безалкогольное, ибо у Гофмана это все же детский сюжет, зато по размаху Воланду до него далеко:
«— Это Апельсинный ручей, — ответил Щелкунчик на расспросы Мари, — но, если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с Лимонадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро Миндального молока» (далее подробно описываются реки и озера из всевозможных напитков).
Фонтан, впрочем, тоже имеется: «а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, оршада и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн был полон сбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой».
- Героини получают намек на свою сопричастность к царственности.
Коровьев — Маргарите: «Да и притом вы сами — королевской крови».
Дроссельмейер — Мари: «Ах, милая Мари, тебе дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как и Пирлипат, — прирожденная принцесса: ты правишь прекрасным, светлым царством».
- Магический помощник увлекается макетами: у Воланда имеются оживающие шахматы и невероятно реалистичная модель земного шара, на которой можно наблюдать даже воюющих людей; Дроссельмейер мастерит игрушечные замки с марширующими солдатиками и танцующими парами.
Но если Дроссельмейер – своеобразный коллега шарманщика Карло из сказки о Буратино А.Н. Толстого («О святой инстинкт природы, неисповедимая симпатия всего сущего! – воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. – Ты указуешь мне врата тайны. Я постучусь, и они откроются!»), то Воланд считает людей за куклы, которыми ему можно, с его точки зрения, развлекаться. Отсюда можно сделать вывод, что и мастер с Маргаритой для дьявола, попавшие в его ведение – тоже куклы-марионетки. «Он не успел нагрешить» – эти слова Воланда об убитом ребенке, сказанные над реалистичной моделью земного шара, как нельзя кстати характеризуют дьявола как настоящее зло.
- Потустороннее празднество сопровождается массовой давкой гостей, причем у Гофмана она принимает гораздо более масштабный характер, чем у Булгакова: сталкиваются Великий Могол, сопровождаемый «девяноста тремя вельможами и семьюстами невольниками», пятьсот рыбаков и три тысячи турецких янычар. В давке даже отрывают голову некоему брамину, которую, впрочем, благополучно приделывают обратно, так как он кукла. У Булгакова отрывание головы перенесено в другое место повествования — в сцену выступления Воланда в Варьете. Однако легкость, с которой Жоржу Бенгальскому то отрывают голову, то вновь приставляют, напоминает о том, за кого воспринимает Воланд людей – за кукол (да и «индийская» фамилия персонажа навевает ассоциации с брамином).
- Герой забирает героиню в царство. Заметим, что булгаковский мастер в ходе своей финальной трансформации неожиданным образом получает прическу XVIII века: «Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру». У Щелкунчика в финале «волосы были тщательно завиты и напудрены, а вдоль спины спускалась превосходная коса» (что для эпохи Гофмана неудивительно). Коса Щелкунчика — его настойчиво подчеркиваемый атрибут — в буквальном смысле торчит из обличия мастера.
- Сторонние наблюдатели пытаются найти случившемуся рациональное объяснение. Впрочем, у Гофмана это встречается не только в «Щелкунчике», и такое сходство поэтики Гофмана и Булгакова уже отмечалось критиками раньше.
Все эти странные параллели сюжетной линии мастера и Маргариты со сказкой о Щелкунчике могут заставить заподозрить Булгакова в глумлении над произведением Гофмана, если забыть о его интересе к его творчеству и о том, что мастер – это не подобие племянника Дроссельмейера, а подобие Фауста из одноименной поэмы Гёте, а Маргарита – это тезка героини этого же поэтического произведения, которую Фауст соблазнил, и тезка отрицательной героини сказки Гофмана принцессы Пирлипат. Сам Воланд имеет прообраз из поэмы Гёте «Фауст» в виде Мефистофеля.
Мастер как будто бы в финале становится королем новообретенного потустороннего царства: ведь только он наделен полномочиями снять проклятие с литературного двойника Понтия Пилата — как с героя собственного романа. Воланд сообщает: «За него [Пилата] уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Перед кем же ходатайствовал литературный двойник Иешуа? Как следует из дальнейшего, перед… мастером. Но потусторонний мир, в который попадает герой, оказывается миром его собственного воображения, где он наделен неограниченной властью. Поскольку он чрезвычайно устал, детали этого мира приходится досочинить на ходу Маргарите:
«Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит».
Обратим внимание: Булгаков не упоминает о том, что герои сначала увидели всё это. Такое впечатление, что детали нового мира творятся буквально на наших глазах, и Маргарита разделяет с мастером власть над миром его воображения.
Пышный город с садами, придуманный мастером ранее, оставлен позади с Понтием Пилатом. Герои создают новый мир под себя — утопию частной жизни. Но это утопия призрачная, находящаяся под властью дьявола. А от того, что сбылось для мастера и Маргариты по мановению дьявола, веет призрачностью и фальшивостью, в отличие от подлинного чуда, которое несёт в себе сказка Гофмана о Щелкунчике.
Соответственно, можно прийти к выводу о том, что не Булгаков, а обличаемый им дьявол в Москве устраивает подобие истории Щелкунчика, противоположную оригиналу во всём его смысле, где его двум главным героям суждено оказаться во власти ада, ведь они для Воланда – живые марионетки, продавшиеся ему и заключившие сделку с ним, они же катализаторы дьявольского подобия истории Щелкунчика. Всё прочее случившееся, начиная от смерти Берлиоза и кончая пожаром здания литературного МАССОЛИТа, очень похоже на процесс потопления испанского корабля из пушкинской фаустовской сцены (при упоминании эпизодного персонажа, директора ресторана Арчибальда Арчибальдовича, заведение сравнивается у повествователя с кораблем, который он покидает при пожаре).
То, что зло воюет с обличающими его сказками, известно по крайней мере из повести Ф.Ф. Кнорре «Капитан Крокус» и вполне объяснимо[10]. В какой-то степени понятно, почему микромотив гофманского «Щелкунчика» появляется у него в повести в сцене противостояния Почетного Ростовщика и капитана Крокуса – Кнорре входил в круг знакомых самого М.А. Булгакова, и весьма вероятно, что о Гофмане он узнал именно от него.
Но война со сказкой может быть и такой, какую Булгаков показывает в своём романе через сюжетную линию мастера, Маргариты и Воланда – более изощрённой с помощью имитации её сюжетных линий и героев. Кстати говоря, многие идеализирующие сюжетную линию мастера и Маргариты и самого дьявола из-за незнания всех мелких деталей её описания Булгаковым наивно поверили в неё как в сказку, но никому не приходило в голову, что эта явная антисказка, устроенная инфернальными силами. Но почему дьявол создаёт своё подобие истории Щелкунчика с действующими лицами-подобиями главных героев гётевской поэмы «Фауст»?
Всё это происходит потому, что сам роман антифаустовский, антимасонский и антигётевский с эпиграфом из поэмы Гёте, и обличает и Гёте, и масонство. Поэма «Фауст» не могла быть не создана под влиянием масонства с соответствующей моралью, показанной на судьбе Фауста: в отличие от традиционных версий легенды, согласно которым Фауст получает воздаяние, в версии Гёте происходит квинтэссенция апологетики «я»-центризма, характерной черты демонизма, и абстрактного гуманизма от имени Фауста на протяжении всей поэмы[11].
К тому же Гёте был ярым противником таланта Гофмана в своё время. И разумеется, Булгаков знал из книг о масонстве, что Гёте был масоном[12]. Сам Гёте в своём негативном отношении к таланту Гофмана явил личностный демонизм, который Булгаков не мог не заметить, изучая творчество и жизнь Гофмана. Почему бы тогда Булгакову не показать, как сам дьявол с чертами беса из немецкой поэмы о Фаусте Гёте надсмехается над сказкой выдающегося немецкого сказочника Гофмана, устраивая свою антисказку, со всеми трюками на фоне помогающего этому безбожия?
Всё это как раз подтверждает слова Иисуса на допросе Пилата в начале романа о том, что зло обусловлено порочной культурой, у Булгакова из вынужденного рассказа дьявола (вынужденного, так как без него было невозможно нечисти привести к бегству и гибели впечатлительного Берлиоза, чтобы занять его квартиру на время для похищения мастера и Маргариты). Причём продуктом порочной культуры, пропагандирующим «я»-центризм, исходя из точки зрения булгаковского романа, является «Фауст» Гёте, в то время как в самом романе Булгакова апологетики «я»-центризма нет, зато есть её полное разоблачение.
Таким образом, Булгаков показывает дьявольскую суть кураторов масонства и изъян поэмы Гёте во всей красе в сюжетной линии мастера и Маргариты, а также хитрое глумление дьявола над сказкой Гофмана, не испытывая к инфернальным силам ни малейшей симпатии. Так что «Мастер и Маргарита» — это не только художественное выражение русского богословия[13], это ещё своеобразный отзвук последствий ненависти Гёте к творчеству Гофмана и своеобразный ответ-полемика на поэму о Фаусте и её автора[14].
Разумеется, неизвестно, что было бы, если бы Булгакову повезло пережить Великую Отечественную войну. Однако если бы такое было возможно, он убедился бы в правоте своего романа – в том, что в действительности дьявол попытается нанести свой визит разрушительного характера в Москву под «немецким» обличием посредством мощи военной машины немецкого нацистского Третьего Рейха, одним из последствий очернений гофманских произведений в девятнадцатом веке в Германии и полном умолчании какой-либо альтернативы “Фаусту” Гёте, возвеличенного в классику[15]. Но как в действительности Москва выстояла, так и в конечном итоге в романе, несмотря на описанные в черновиках у Булгакова бедствия города, горит лишь ресторан МАССОЛИТа.
Как гласит кораническая сентенция, «Они (неверующие) хитрили, и Бог хитрил, а ведь Бог – Наилучший из хитрецов» (3:51-54, в переводе И.Ю. Крачковского). И одну из хитростей от Бога явил М.А. Булгаков, вступившись за немецкого сказочника и фантаста и создав свой ответ на гётевскую выдумку о Фаусте.
12.07.2020 – 13.08.2020
[1] См. нашу статью «Э.Т.А. Гофман: немецкий сказочник и фантаст скрытой правды» (https://kob-alt.ru/gofman-nemeczkij-skazochnik/).
[2] http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/acta/2009_8/feborov.pdf
[3] Возможно, что автор «Фауста», написавший одну из трёх сказок всего лишь за свою жизнь, «Сказку из “Разговоров немецких беженцев”», известную как «Сказка о прекрасной лилии и зеленой змее» и и представляющую собой подражание «Волшебной флейте» Моцарта (http://vbaden-baden.blogspot.com/p/rulit.html), увидел в сказке Гофмана о золотом горшке парафраз своему сочинению, хотя предшествующим звеном у Гофмана была сказка «Зелёная змея» французской писательницы Мари-Катрин д’Онуа (1651-1705) (https://francuzskie-skazki.larec-skazok.ru/zelenaya-zmeya).
[4] http://lib.ru/PRIKL/SKOTT/scott20_6.txt
[5] Гегель отозвался так: «Из области искусства следует как раз изгонять темные силы, ибо в искусстве нет ничего темного, а все ясно и прозрачно. Введением сил, стоящих выше нашего понимания, поощряется лишь болезнь духа, а поэзия становится от этого туманной и пустой. Образцы подобной поэзии дают нам Гофман и Генрих фон Клейст в его «Принце Гомбургском»» (https://esthetiks.ru/author/estks/page/48).
[6] См. «Масонские биографии» (коллектив авторов) (https://web.archive.org/web/20200530103037/https://cn511.mooo.com:443/b.fb2/Kollektiv-avtorov_Masonskie-biografii.djDP6g.380549.fb2.zip?eTQ9qx0k), исторические монографии «С талмудом и красным флагом. Тайны мировой революции» В.В. Большакова (https://web.archive.org/web/20200530103326/https://cn511.mooo.com:443/b.fb2/Bolshakov_S-talmudom-i-krasnym-flagom-Tayny-mirovoy-revolyucii.jbu98w.336593.fb2.zip?cSbPG0ok) и «Масонство в прошлом и настоящем» Микеле Морамарко (https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Moram/index.php), статьи «Гегель между масонской ложей и прусской монархией» Жака д’Онта (https://istp2012.livejournal.com/22486.html) и «Знакомый Гегель с незнакомой биографией» Андрея Тесли (http://www.russ.ru/pole/Znakomyj-Gegel-s-neznakomoj-biografiej).
[7] В.Ю. Катасонов – «На Нюрнбергском процессе евгеника была осуждена, но корни её остались нераскрытыми» (http://reosh.ru/valentin-katasonov-na-nyurnbergskom-processe-evgenika-byla-osuzhdena-no-korni-eyo-ostalis-neraskrytymi.html).
[8] http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/safranski-gofman/balakin-mezhdu-skazkoj-i-realnostyu.htm
[9] См. труд ВП СССР «Размышления при прочтении «Сцен из Фауста» А.С. Пушкина».
[10] См. нашу статью «Повесть Ф.Ф. Кнорре «Капитан Крокус»: ковчег спасения от технообразного фашизма» (https://kob-alt.ru/kovcheg-spaseniya).
[11] М. Карев – «Сделка Фауста с чёртом» (https://mkarev.livejournal.com/163616.html).
«Благородство и добросердечие масона сосредоточены на абстрактном человеке, моделью которого становится обычно сам благодетель, но к реально живущим людям и обществу, которые являются «низкорожденным быдлом» и только мешают достижению благородных целей, масон безразличен, а чаще суров или даже жесток. <…> Слегка углубившись в проблему, отметим, что масонство есть «закваска» революции, но при этом большая часть масонов предпочитает управляемый эволюционный путь развития, в ходе которого наносят точечные удары по мешающим им носителям власти, если те сами не являются братьями лож» (В. Н. Еремин «Тайны смерти русских писателей» «Глава 3. Кондратий Рылеев, или Казнить нельзя помиловать (1795—1826)» (https://biography.wikireading.ru/169517)).
Небезосновательно немецкий философ Освальд Шпенглер в своём труде “Закат Европы” удостоил западноевропейскую культуру весьма характеризующим эпитетом, назвав её “фаустовской” (см. соответствующий философский термин (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9292/%D0%A4%D0%90%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF)). На этом фоне Гёте выглядит орудием закрепления “фаустовского” состояния культуры Западной Европы. Соответственно, мастер из булгаковского романа сам попал под «фаустовское» влияние, если упоминает оперу Гуно по «Фаусту» Гёте в разговоре с Поныревым. Учитывая апологетику «я»-центризма «Фауста» Гёте, по сравнению с этой поэмой роман Гёте в письмах «Страдания юного Вертера», запустивший волну самоубийств, подражаний самоубийству главного героя, выглядит пробным шаром относительно литературы как инструмента бесструктурного управления (этот феномен получил название «эффект Вертера» (см. статью «Синдром Вертера, или Почему СМИ следует меньше сообщать о терактах» (https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85/a-40356122?maca=rus-vk-dw))).
[12] В числе статей, написанных А.И. Булгаковым, отцом писателя и богословом, имеется «Современное франкмасонство в его отношении к церкви и государству» (Труды Киевской Духовной Академии, 1903, выпуск 12). Приводя его характеристики, он делает вывод, что «современное франкмасонство в национальном отношении является интернациональным (международным), в учении веры индифферентным (религиозно безразличным), в государственном отношении стремящимся к олигархическому образу правления, т.е. к преобладанию в управлении всех стран тех немногих лиц, которые держат в руках своих все нити франкмасонского союза» (https://archive.org/download/bsfvokcig.1903/bsfvokcig.1903.pdf). Это не могло не заинтересовать Булгакова-писателя.
“Оригинальны атрибуции Я.И. Бердичевского на основе сохранившихся фотографий булгаковских книг. По корешкам он определил, в частности, что писатель имел двухтомник “Масонство в его прошлом и настоящем”, вышедший и Москве в 1914-1915 гг. (третий том, изданный лишь в 1922 г., представляет собой библиографическую редкость). С этой книгой есть тесные параллели в “Мастере и Маргарите”» (Катерина Кончаковская-Купин «Рецензия на монографию А.П. Кончаковского «Библиотека Михаила Булгакова. Реконструкция»») (http://bulgakov-kiev.tripod.com/biblbulg.html).
[13] См. труд ВП СССР ««Мастер и Маргарита»: гимн демонизму? Либо Евангелие беззаветной веры».
[14] Лишь только к концу своей жизни Гёте осознал свою мировоззренческую ошибку в следующей форме в одном из своих трактатов: «Подлинной, единственной и глубочайшей темой истории мира и человечества, темой, которой подчинены все прочие, остается конфликт между верой и неверием. Все эпохи, в которых господствует вера, отличаются блеском, вдохновением и плодотворностью как для самих себя, так и для последующего времени. Все эпохи неверия, в какой бы то ни было форме… даже если бы неверие на мгновение могло похвалиться ложным блеском, — пропадают для последующих поколений, ибо никто не желает возиться с познанием бесплодности» («Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Glaubens und Unglaubens. Alle Epochen, in welchen der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form es sei, einen kümmerlichen Sieg behauptet, und wenn sie auch einen Augenblick mit einem Scheinglanze prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag») (https://books.google.ru/books?id=KgwCHmgIaXwC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). Но к этому тезису Гёте внимание европейских интеллектуалов не было обращено, и влияние творчества Гёте на умы последующих их поколений было таково, что его апологетикой в начале 20 века занимался оккультист Рудольф Штейнер, чьи отсылки на Гёте подвергались критике без рассмотрения сути «фаустовской» темы в творчестве немецкого поэта (см. статью поэта-символиста Л.Л. Кобылинского (Эллиса) «Теософия перед судом культуры» (http://az.lib.ru/e/ellis/text_1914_teosofia_pered_sudom_kultury.shtml)).
Вследствие этого поэма Гёте «Фауст» была своеобразным «окном Овертона» для идеализации демонизма в Западной Европе. Немногие интеллектуалы в 19 веке смогли понять опасный смысл этой поэмы, как это смог сделать русский философ Константин Леонтьев:
«Гёте. Да, от него заразились и все наши поэты и мыслители, на чтении которых я имел горькое несчастие воспитаться и которые и в жизни меня столько руководили! «Рассудочный блуд, гордая потребность развития какой-то моей личности»… и т. д. Это ужасно! Нет, тут нет середины!» («Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова») (http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_1891_perepiska.shtml).
[15] Показательно, что в двадцатом веке, в нацистской Германии поэма Гёте «Фауст» собрала о себе в большинстве своём восторженные отзывы в публицистике того времени (см. статью Томаса Цабки «Захват «Фауста» в нацистской Германии», собравшей в себя восторженные в большинстве своём отзывы публицистики нацистской Германии о поэме Гёте (https://seance.ru/articles/zahvat-fausta-vnatsistskoy-germaniiotnemetskogo-mifa-kvoenno-vspomogatelnoy-sluzhbe/)). И только в это время, накануне двух мировых войн, к интеллектуалам пришло горькое понимание многих заблуждений, порождённых «Фаустом» Гёте.
Мы не обойдемся без упоминания романа немецкого писателя двадцатого века Томаса Манна «Доктор Фаустус». В отличие от поэмы Гёте, в финале которой «deus ex machina» (“бог из машины”, якобы представляющийся Богом-Вседержителем в поэме) берёт к себе душу Фауста в свой рай, выигрывая спор с дьяволом за него, «Доктор Фаустус» представляет наглядное реалистичное изложение фаустовской судьбы. В этом романе описана жизнь композитора Адриана Леверкюна, Фауста современности, повторяющего путь Фауста Гёте и заканчивающего сумасшествием и духовной гибелью, на фоне прихода к власти нацистов в Германии и их последующего краха. Делая в романе параллель между судьбой Германии во власти нацистов и судьбой Леверкюна, жившего в ту эпоху, Томас Манн недвусмысленно намекает, что целый народ повторил гибельный фаустовский путь, путь сговора с демонизмом, рассуждает об ответственности немецких интеллектуалов за возникновение идеологии нацизма (“болезни духа”). Манн непрозрачно намекает, что именно волюнтаристическая деятельность таких интеллектуалов немецкой культуры, как Ницше (чья биография органично ложится на судьбу Леверкюна), косвенно повинна в крахе Германии. Однако к списку интеллектуалов, готовивших Германию к нацистской катастрофе, наряду с Ницше можно причислить и самого Гёте из-за его поэмы «Фауст», резюмируя её смысловое содержание.
” width=”20″ height=”20″>